
Аркадий Бабченко
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Ему трижды выстрелили в спину, когда он возвращался домой из продуктового магазина.
Лежащего у входа в квартиру Бабченко обнаружила его жена. Журналист умер в машине “скорой помощи”. Киевская полиция рассматривает две версии убийства – профессиональная деятельность Бабченко и его гражданская позиция.

Полиция у подъезда дома в Киеве, где жил и был убит Аркадий Бабченко. 29 мая 2018 года
Комитет защиты журналистов призвал власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства Бабченко.
 МВД Украины возбудило дело по статье “умышленное убийство” и опубликовало нарисованный портрет предполагаемого убийцы:
МВД Украины возбудило дело по статье “умышленное убийство” и опубликовало нарисованный портрет предполагаемого убийцы:
Дело об убийстве журналиста также возбудил Следственный комитет России. “Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России”, – заявили в ведомстве.
Накануне Бабченко писал об угрозах, которые поступали ему от некоего “доверенного лица президента”, однако затем стер пост. Ссылка сохранилась в твиттере.
Бывший советник министра внутренних дел Украины и депутат Верховной Рады Антон Геращенко обвинил в убийстве Бабченко “путинский режим”. Он также сообщил подробности произошедшего:
В Совете по правам человека при президенте России убийство Бабченко назвали провокацией. “Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, мы знаем его как опытного военного журналиста, со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер”, – заявил глава Совета Михаил Федотов.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах.
После окончания службы стал работать военным корреспондентом, впоследствии сотрудничал со многими изданиями, в том числе с “Новой газетой”. Журналист неоднократно выступал с критикой действующих российских властей.
 В прошлом году Аркадий Бабченко покинул Россию. У него появились сведения, что ему “лучше какое-то время пожить за пределами родины”. “У меня есть информация о том, что на меня может быть заведено уголовное дело и могут посадить. Поэтому я решил пока временно уехать… Они взяли курс не на посадки и репрессии, они стараются выдавливать людей”, – заявил в феврале 2017 года Аркадий Бабченко сразу после отъезда из Москвы.
В прошлом году Аркадий Бабченко покинул Россию. У него появились сведения, что ему “лучше какое-то время пожить за пределами родины”. “У меня есть информация о том, что на меня может быть заведено уголовное дело и могут посадить. Поэтому я решил пока временно уехать… Они взяли курс не на посадки и репрессии, они стараются выдавливать людей”, – заявил в феврале 2017 года Аркадий Бабченко сразу после отъезда из Москвы.
 В последнее время журналист работал телеведущим на крымско-татарском канале ATR.
В последнее время журналист работал телеведущим на крымско-татарском канале ATR.
Бабченко, после Чехии отправившийся в Израиль, а потом на Украину, называл это “временным отступлением” или “временной эвакуацией”. В видеоинтервью Радио Свобода, записанном в Праге летом прошлого года, он описывал свой жизненный путь военного корреспондента и затем оппозиционного активиста, приведший его за пределы России. Вот фрагмент этой беседы:
– Есть некоторые вещи, которые заставляют сомневаться в том, что вы просто хотите спокойно жить до 96 лет. Например, бескомпромиссные посты в фейсбуке.
– Я совершенно не считаю себя бескомпромиссным человеком, я просто пытаюсь называть вещи своими именами. У нас нет никакого президента Путина, президент – это выборная должность, у нас есть узурпатор Путин, у нас произошла силовая узурпация власти. Давайте так и говорить. У нас нет никакого государства, потому что государство – набор общественных институтов по максимально эффективному управлению территорией. У нас есть бандитские группировки, дорвавшиеся до власти, основная задача которых – обеспечить личное благосостояние, удержать собственную власть и третировать население. У нас нет никакого народа, – есть атомизированные группы отдельных людей, которые собраны путем воздействия какого-то внешнего несчастья, и которые ненавидят всех остальных. Нет никакого конфликта на Донбассе, есть оккупация Донбасса, ведение Россией агрессивной войны против соседнего государства, бывшего когда-то нам действительно братским народом.
Я, безусловно, хочу дожить до 96 лет
В чем бескомпромиссность? Это просто терминология. Я, безусловно, хочу дожить до 96 лет. Знаете, как это происходит? Смотришь на человека, он ничем не интересуется, пишет – я вне политики, меня все устраивает, я живу, как есть. Потом бах – он сталкивается с какой-то проблемой, поначалу незначительной. Вот у него ларек, пришел участковый и сказал: будешь мне в день платить 5 тысяч рублей или сколько-то там в месяц. Человек пишет одну справку, другую, сталкивается с уровнем выше, еще выше. Его начинают прессовать, приезжают бандиты, сжигают его ларек. Он пишет в ФСБ, приезжают другие бандиты, сжигают его машину. В конце концов он берет вилы, выходит на митинг. Его сажают в лагерь, из лагеря он выходит конченым диссидентом, оппозиционером, “русофобом”, ненавистником этой власти. Со мной происходит примерно то же самое. Я хочу дожить до 96 лет, но в нормальной стране, чтобы она не убивала людей, как минимум чужих, а еще лучше своих, чтобы она не нападала на страны, чтобы было право выбора, чтобы было безопасно. Я хочу построить эту страну и в ней уже спокойно дожить до 96 лет.
– Почему вы уехали?
– Я все-таки не считаю, что я уехал, я хочу вернуться. Я не хочу подавать на беженство, я не хочу получать чужое гражданство. Я считаю это временным отступлением, временной эвакуацией. Я готов отправиться в тюрьму, но за дело – если мы действительно выйдем на баррикады, за свободу, если будет какая-то попытка Майдана, – тогда, если проиграем, то проиграем, как пойдет, так пойдет. Но получать четыре года за пост в фейсбуке я не хочу, я уже не готов. Поэтому, когда начался очередной пароксизм активности у них, я решил сюда приехать на время, его пересидеть, а через полгода-год им будет уже не до меня, переключатся на кого-то другого, тогда я думаю вернуться…
– А вы не думали не паузу брать, а перестать писать посты в фейсбуке?
– А что мне еще теперь делать? Я 17 лет этим занимаюсь. Назвался груздем, полезай в кузов…”.
Год назад Аркадию Бабченко его читатели на портале The Question задали вопрос “Страшно умереть сейчас?” Он ответил так
Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто. Только страшно по-разному.
В восемнадцать лет было страшно, потому, что только-только вылез из-под мамкиной юбки. Ты еще не видел мир. Ты еще не жил. Совсем. У тебя еще ничего не было. У тебя даже любви еще не было. Восемнадцать лет – это практически еще ребенок. Мир открыт перед тобой, такой манящий, он зовет тебя всеми своими красками, а тебе надо умирать. Так и не увидев его. Так и не пожив в нем. Так и не оставив после себя ничего. Не оставив детей. Не продолжившись в них. Ниточка жизни, тянувшаяся миллионы лет от твоих предков, будет разорвана. И от этого такая тоска, такая чернуха… Как там, в “Тонкой красной линии” – мне всего девятнадцать, а мне уже так плохо. Первая чеченская для меня – это абсолютная безнадега, абсолютная тоска, абсолютная чернуха. Она даже память извратила – я был на этой войне летом, когда в Чечне буйство красок, но помню её только черно-белой. Как на кадрах хроники. Цвета в памяти не остались. Вообще. Только черное ожидание смерти.
Сейчас страх уже другой. Не такой острый. Как-то устаканился, что ли… Сейчас, по крайней мере, я уже продлил свой род. Эта ниточка жизни не будет разорвана. Ведь что такое бессмертие, как не наши дети, верно? Мы продолжаемся в них. Так что, по крайней мере, за это я спокоен.
Но страшно, что не увидишь, как растет твой ребенок. Никогда больше не сможешь обнять. И дочка никогда не сможет обнять тебя. Вот это уже жалко.
Но тут уж ничего не поделаешь. Издержки профессии. Надо это осознавать. Надо понимать, что работа у тебя такая – если потребуется, умереть вместе с этими людьми.
Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное – не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь…
Я видел и как ставят к стенке, и к стенке ставили и меня самого. Никакая жизнь перед глазами, конечно же, не пробегает. Все это чушь собачья. Лично я вообще думал только об одном – сможет ли он убить меня с первого выстрела, или не сможет. И, потому, как он торопливо дергал затвор, понял – что не сможет.
Собственно, в такие моменты боишься уже не самой смерти – ну, что, смерть, выключили свет, и все, если в голову, ты даже и не поймешь, что умер. По-настоящему боишься боли. Все мы видели, что артиллерийский снаряд может сделать с человеческим телом. Боишься, что будешь валяться в собственной юшке с вырванной челюстью и хрипеть еще несколько часов, собирая кишки. И чувствовать, как внутрь тебя затекает холодный воздух. Вот так умирать – и вправду страшно.
А еще жалко, что не увидишь будущего. Потому что, как по мне, мы сейчас живем в очень интересное время. Время новых прорывов, новых открытий. Я бы вот очень хотел бы прокоптить небо ещё лет сто шестьдесят и умереть, наверное, где-нибудь в Долине Маринера на Марсе. Собственно, наша с вами задача – дотянуть до того момента, когда кардинальное продление жизни будет стоить сто долларов.
Но когда ты находишься на войне достаточно долго, это все – не то, что исчезает, а отходит на второй план. Месяц-два, и тот мир, где у тебя есть дети, дом, будущее – становится расплывчатым. А реальным остается только то, что есть здесь и сейчас.
Когда погиб Игорь, мой друг и земляк, я хотел убить всех, без разбора, руками – женщин, детей, стариков… А потом умереть самому. Я тогда сошел с ума. В прямом смысле. Мне кажется, я уже начал видеть себя со стороны.
Хорошим солдатом становишься не тогда, когда начинаешь метко стрелять или далеко бросать гранаты. Хорошим солдатом становишься тогда, когда к жизни и смерти начинаешь относиться одинаково – одинаково безразлично. Тебе уже безразлично – выживешь ты, или умрешь. Тогда люди начинают делать вещи на которые человек, казалось бы, не способен. То, что потом назовут “подвиг”. Своя-то жизнь не стоит ни копейки, не то, что чужая. Возвращаться потом очень тяжело. Годами. Десятилетиями. Некоторым, чтобы вернуться, так и не хватает всей жизни.
В восемнадцать лет, наверное, все же проще. Тот, кто сделал призывной возраст в восемнадцать лет – был очень умный. В таком возрасте человеком намного проще манипулировать. Еще романтика и грезы о подвигах. Еще нет ответсвенности. Нет семьи. Почти нечего терять. Проще загадить голову высокими лозунгами о долге, Родине, патриотизме, доблести.
К сорока годам все это уже не работает. К сорока годам вообще становишься осторожней.
Я вот, например, уже третий год не могу заставить себя вновь поехать на войну.
В свое время я был хорошим солдатом. Я дошел до этой стадии.
А сейчас я плохой солдат. Я жить хочу больше, чем умереть.
Svoboda
29 мая 2018 г.
 В Швейцарии умер знаменитый своим картофельным пюре французский “шеф-повар века”
В Швейцарии умер знаменитый своим картофельным пюре французский “шеф-повар века”








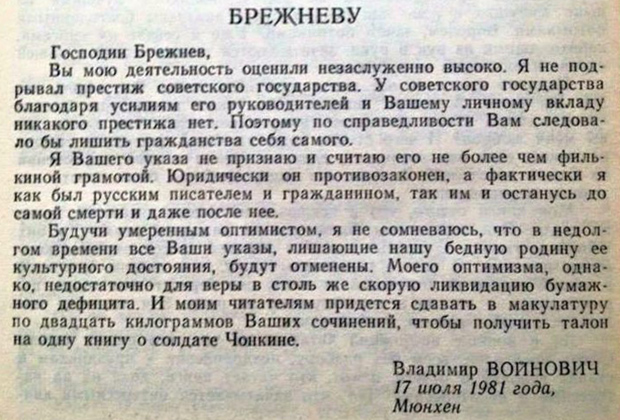
 В канадском городе Торонто вечером 22 июля по местному времени произошла стрельба в оживленном квартале. В результате ЧП погибла женщина, еще 13 человек попали в больницы, сообщает полиция города в Twitter. Стрелок мертв, его полиция не причисляет к жертвам происшествия
В канадском городе Торонто вечером 22 июля по местному времени произошла стрельба в оживленном квартале. В результате ЧП погибла женщина, еще 13 человек попали в больницы, сообщает полиция города в Twitter. Стрелок мертв, его полиция не причисляет к жертвам происшествия Стрельба прогремела в районе Гриктаун около 10 часов вечера по местному времени. Журналистам
Стрельба прогремела в районе Гриктаун около 10 часов вечера по местному времени. Журналистам  Всего в результате стрельбы пострадали 14 человек. Позже выяснилось, что одна женщина, получившая ранение, скончалась. Также известно, что в больнице находится пострадавшая девочка, она в критическом состоянии.
Всего в результате стрельбы пострадали 14 человек. Позже выяснилось, что одна женщина, получившая ранение, скончалась. Также известно, что в больнице находится пострадавшая девочка, она в критическом состоянии. Борис Джонсон 9 июля ушел из правительства Великобритании. Министр иностранных дел, ставший в свое время одним из главных лиц “брексита”, подал в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра Терезы Мэй, готовой к “мягкому” разводу с ЕС. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем известен Джонсон, один из самых харизматичных и спорных политиков Британии – и что его ждет.
Борис Джонсон 9 июля ушел из правительства Великобритании. Министр иностранных дел, ставший в свое время одним из главных лиц “брексита”, подал в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра Терезы Мэй, готовой к “мягкому” разводу с ЕС. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем известен Джонсон, один из самых харизматичных и спорных политиков Британии – и что его ждет.

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта новым главой Министерства иностранных дел страны вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта новым главой Министерства иностранных дел страны вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона Джереми Хант в 2010-2012 годах был министром культуры, СМИ и спорта, с 2012 года занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты. С 2005 года Джереми Хант является депутатом Палаты общин от избирательного округа Юго-Западный Суррей, отмечает ТАСС. Тогда же он вошел в теневой кабинет тори, в котором пробыл до 2010 года.
Джереми Хант в 2010-2012 годах был министром культуры, СМИ и спорта, с 2012 года занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты. С 2005 года Джереми Хант является депутатом Палаты общин от избирательного округа Юго-Западный Суррей, отмечает ТАСС. Тогда же он вошел в теневой кабинет тори, в котором пробыл до 2010 года. Неизвестный открыл стрельбу возле редакции газеты Capital Gazette, расположенной в столице американского штата Мэриленд, городе Аннаполис. Несколько человек скончались от полученных огнестрельных ранений. Нападавший задержан, сообщает
Неизвестный открыл стрельбу возле редакции газеты Capital Gazette, расположенной в столице американского штата Мэриленд, городе Аннаполис. Несколько человек скончались от полученных огнестрельных ранений. Нападавший задержан, сообщает  Проведена эвакуация людей из здания на Бестгейт-роуд, сообщает полиция округа Анн-Арандел в
Проведена эвакуация людей из здания на Бестгейт-роуд, сообщает полиция округа Анн-Арандел в  Полиция США подозревает 38-летнего Джеррода Уоррена Рамоса в
Полиция США подозревает 38-летнего Джеррода Уоррена Рамоса в  Исполняющий обязанности местного шерифа Уильям Крампф сообщил журналистам о том, что Рамос готовился к нападению и намеренно целил по людям. По его словам, злоумышленник до этого попадал в поле зрения полиции.
Исполняющий обязанности местного шерифа Уильям Крампф сообщил журналистам о том, что Рамос готовился к нападению и намеренно целил по людям. По его словам, злоумышленник до этого попадал в поле зрения полиции. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал на прошедших накануне выборах главы государства абсолютное большинство голосов. Об этом, как передает
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал на прошедших накануне выборах главы государства абсолютное большинство голосов. Об этом, как передает  В свою очередь, “Народный альянс”, сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов – 11,6%, а “Хорошая партия” – 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10-процентный рубеж.
В свою очередь, “Народный альянс”, сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов – 11,6%, а “Хорошая партия” – 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10-процентный рубеж.


 Мужчина, открывший стрельбу в Льеже, в ночь перед нападением совершил убийство, сообщает бельгийское министерство внутренних дел.
Мужчина, открывший стрельбу в Льеже, в ночь перед нападением совершил убийство, сообщает бельгийское министерство внутренних дел.



 МВД Украины возбудило дело по статье “умышленное убийство” и опубликовало нарисованный портрет предполагаемого убийцы:
МВД Украины возбудило дело по статье “умышленное убийство” и опубликовало нарисованный портрет предполагаемого убийцы:
 В прошлом году Аркадий Бабченко покинул Россию. У него появились сведения, что ему “лучше какое-то время пожить за пределами родины”. “У меня есть информация о том, что на меня может быть заведено уголовное дело и могут посадить. Поэтому я решил пока временно уехать… Они взяли курс не на посадки и репрессии, они стараются выдавливать людей”, –
В прошлом году Аркадий Бабченко покинул Россию. У него появились сведения, что ему “лучше какое-то время пожить за пределами родины”. “У меня есть информация о том, что на меня может быть заведено уголовное дело и могут посадить. Поэтому я решил пока временно уехать… Они взяли курс не на посадки и репрессии, они стараются выдавливать людей”, –  В последнее время журналист работал телеведущим на
В последнее время журналист работал телеведущим на